В последний день зимы високосного 1992 года, 29 февраля, тысячи севастопольцев вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь к Владимирскому собору на Центральном холме Севастополя гробы с останками четырёх легендарных адмиралов — Михаила Лазарева, Владимира Корнилова, Владимира Истомина и Павла Нахимова. Память об этом дне жива и сегодня, но мало кто знает, что он мог быть совсем иным.
Как защитники Севастополя стали «слугами династии»
О том, как принималось решение построить Владимирский собор — Усыпальницу адмиралов на Центральном городском холме Севастополя и кто те девять из тринадцати захороненных здесь человек, имена которых остаются в тени, мы рассказали 22 августа. Последнее захоронение, напомним, состоялось в Усыпальнице в 1920 году. А затем наступили иные времена.
Уже после Февральской революции, когда о победе большевиков ещё не было и речи, взбудораженные народные массы начали требовать убрать из Владимирского собора царских адмиралов. Раздавались и призывы положить вместо них Петра Шмидта и лидеров восстания на крейсере «Очаков» в 1905 году. Известно, что в 1917 году останки Шмидта и расстрелянных вместе с ним матросов были экстренно перевезены с острова Березань в Севастополь и захоронены в Покровском соборе. Причём сделано это было с большими почестями, в том числе церковными, по приказу командующего Черноморским флотом вице-адмирала Колчака. Так неужели же Колчак был большим поклонником мятежного лейтенанта?!
Конечно же, нет. Это решение, говорит почётный настоятель (а с начала 90-х до 2024 года — настоятель) Владимирского собора о. Алексий Тупиков, было соломоновым: таким образом командующий пытался спасти Усыпальницу адмиралов от поругания, и это ему удалось. В Покровском соборе останки Шмидта и его соратников тоже пролежали недолго: уже в начале 20-х новая власть сообразила, что это как-то неправильно и не сообразуется с революционной идеологией, и перевезла их прах на Кладбище коммунаров. Усыпальница же осталась нетронутой. И это главное.
Бог уберег её и позже, хотя многие храмы России в 20–30-е годы были попросту уничтожены. Сейчас напоминание об этом (как, впрочем, и о репрессиях тех лет) вызывает у некоторых граждан приступ агрессии и злобы — в лучшем случае они утверждают, что ничего этого не было, в худшем — что власти всё делали правильно, а убиенные и репрессированные «сами виноваты». Отрицают эти граждане и нападки на адмиралов и их Усыпальницу. Но всё это было.
«Была у нас одна прихожанка, Вера Семёновна, из семьи потомственных клирошан — все её предки всегда были при церкви певцами, чтецами, псаломщиками. В 30-е годы её брат, псаломщик, переписывал ноты церковного песнопения, в котором говорилось о царе (разумеется, небесном). Но эта строчка («Яко да Царя всех подымем») стала причиной доноса, в котором говорилось, что он вынашивает монархические настроения. В итоге брат был арестован и сгинул где-то в пучинах ГУЛАГа. Об адмиралах же, которые вдруг оказались „слугами свергнутой династии”, местная газета — если не ошибаюсь, „Маяк Коммуны” — писала, что захоронения во Владимирском соборе оскорбляют чувства трудящихся», — говорит о. Алексий.
Не будем забывать и о том, что в 1928 году в Севастополе снесли установленный в 1867-м памятник Михаилу Лазареву — он тоже оскорблял чьи-то чувства. А Павла Степановича Нахимова на главной площади города заменили «вождём мирового пролетариата».
Вопрос «почему» остаётся без ответа
В 30-е годы во Владимирском соборе разместились мастерские Осовиахима, но сам собор всё же стоял. Потом были война, нанёсшая зданию сильный урон, потом в нём разместили склад типографии. И только в начале 1990-х за склеп с останками адмиралов взялись всерьёз. Почему это не было сделано в советское время, когда страна засматривалась фильмами о Нахимове, а орден его имени был высочайшей честью, понять невозможно. Но зацементированный после войны склеп был вскрыт только в 1991 году.
Открывшаяся людям картина была ужасной.
«Вот здесь, посередине, была просто цементная стяжка толщиной всего около 5 сантиметров, — рассказывает о. Алексий. — Когда её проломили, оказалось, что склеп доверху забит мусором. Во время второй обороны Севастополя здесь располагался штаб разведки Черноморского флота, а там, где сейчас алтарь, находилось рабочее место начальника штаба Дмитрия Багратовича Намгаладзе. Домов, которые стоят сейчас с восточной стороны от храма, тогда ещё не было, и отсюда прекрасно просматривались Инкерманские высоты и Мекензиевы горы. Однажды к нам приходили ветераны радиоразведки и вспоминали, как Намгаладзе ставил лестницу, чтобы добраться до окошка и в бинокль смотреть, что происходит в Инкермане. А один из наших священников рассказывал, что во время войны, будучи молодым матросом, вместе с товарищами затаскивал в помещение нижнего храма мешки с песком — ими обкладывали стены, чтобы гасить ударную волну от разрыва бомб и снарядов».
Изрядная часть этого песка в конце концов оказалась внутри склепа. Но и это было не самое страшное.
«В 30-е годы, после закрытия храма, здесь размещались мастерские Осовиахима — в склепе от них остался двигатель от самолёта. Там же были битая посуда, обрывки матросской формы, знаменитые матросские башмаки, каждый из которых, по-моему, весил полтора килограмма, осколки надгробий, кости животных, обрывки газет… Всё это примерно на метр было залито грунтовыми водами и страшно смердело. И среди всего этого месива было найдено 76 человеческих костей, в том числе 38 рёбер. В декабре 1991 года эти кости были отправлены на экспертизу в Санкт-Петербург. А дальше случилась очень некрасивая история».
В том же декабре 1991-го в газете «Труд» появилась статья под заголовком «Прах героев найден в коробке из-под бананов». Причём найден, как утверждал автор, на квартире у некоего аспиранта. Статья, полагает о. Алексий, была заказной — кому-то очень хотелось поднять волну возмущения севастопольцами и оставить останки легендарных адмиралов в Северной столице, тем более что как раз в это время СССР распадался на глазах его потрясённых граждан. Никакой коробки из-под бананов, говорит собеседник, при отправке из Севастополя не было — останки были помещены в совершенно новый картонный посылочный ящик.
«Там были прокладочные материалы, вата, обёрточная бумага, каждая косточка была очень осторожно и аккуратно упакована. Но этот скандал в прессе очень расстроил тогдашнего директора Музея героической обороны и освобождения Севастополя Юрия Ивановича Мазепова (в ведении музея, напомним, Владимирский собор находится и сегодня. — ForPost), и кости были срочно возвращены в Севастополь. К тому времени питерские учёные успели лишь установить, что перед ними останки четырёх человек и что время захоронения — примерно середина XIX века. И уже здесь, в Севастополе, патологоанатом разложил их по их принадлежности. Для нас, дилетантов, все кости выглядят одинаково, профессионал может сказать о них много, так как видит их отличие по цвету, структуре, плотности».
Как это было
Да, полной уверенности, что вот это останки Владимира Корнилова, а вот эти — Павла Нахимова, не было и нет. Ориентироваться эксперт мог только по росту, возрасту и другим известным характеристикам. Но это было всё, что сотрудники музея смогли сделать на тот момент. Для останков были сшиты мешочки с изображением Андреевского флага, изготовлены гробы. И тут, рассказывает о. Алексий, он вспомнил, как торжественно проходило перезахоронение лейтенанта Шмидта и его соратников. Увидеть это можно на фотографиях, сделанных в мае 1917-го на улицах Одессы.
«Крестный ход, примерно полсотни священников, лес хоругвей и крестов… Думаю, наши адмиралы заслужили такие почести гораздо больше. Я пошёл к Юрию Ивановичу Мазепову и предложил перезахоронить их так же торжественно. А поскольку все они, кроме Лазарева, погибли на Малаховом кургане, сначала поставить гробы в Оборонительной башне Малахова кургана, а оттуда с почестями доставить в храм. Но Юрий Иванович замахал на меня руками: нет, батюшка, ничего этого не надо, нас и так ославили в газетах, давайте сделаем всё по-тихому, отслужите панихиду — и всё. Ещё раз повторю — он был до крайности расстроен этой гнусной статьёй. Но рядом со мной, на счастье, стоял помощник командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Александр Безмельцев. Он всё это выслушал, ничего не сказал, а на следующий день предложил мне ещё раз сходить к директору музея».
На вопрос «Зачем?» помощник командующего ответил загадочным «Увидите».
«Оказывается, он сразу же пошёл и доложил обо всём Касатонову (Игорь Владимирович Касатонов, почётный гражданин Севастополя, находился на посту командующего в 1991-1992 годах. — ForPost). Наверное, штаб флота не спал всю ночь, потому что к Юрию Ивановичу мы пришли с результатом огромной работы. У Безмельцева под мышкой был пластмассовый тубус, в котором носят чертежи. Он его открывает — а там на листах ватмана нарисованы контуры Севастопольской бухты, обозначены улицы, стрелки, флажки, корабли… И тоном, не терпящим возражений, помощник командующего говорит — Юрий Иванович, по-воровски мы перезахоронить адмиралов не дадим. Будет вот так».
Так и было — 29 февраля 1992 года состоялось торжественное перезахоронение, участниками которого стали тысячи севастопольцев.
«Четыре гроба на лафетах спустили к пристани в Аполлоновке, командующий предоставил свой катер, на который их погрузили. Я в самом начале предлагал оттуда перевезти их сразу на Графскую пристань, но флот решил иначе. На бочках расставили корабли, подняли флаги расцвечивания. Корабли стояли до самого Инкермана, и катер пошёл вдоль всего этого строя под рёв корабельных сирен. Когда катер подошёл к Графской пристани, был дан 21 залп корабельных орудий, и уже после этого офицеры на руках перенесли останки в собор», — вспоминает о. Алексий.
В храм, разумеется, все желающие поместиться не могли — улицы по соседству с Усыпальницей были заполнены людьми. Этот день и сейчас помнят многие севастопольцы. Но тогда было восстановлено лишь центральное надгробие. Остальные появились уже в начале 2010-х — благо сохранилась карта захоронений. С её помощью и была восстановлена историческая справедливость — в той мере, на которую способны потомки.
Было и такое
И напоследок — история, которая несколько выбивается из хода повествования, но рассказать её очень хочется. Одним из похороненных в Усыпальнице, как известно, стал расстрелявший «Очаков» и другие мятежные корабли Григорий Чухнин — что ни говори и как к нему ни относись, он самая сложная фигура из всех, кто обрёл здесь покой. В 1906 году Чухнин был убит на своей даче в посёлке Голландия бывшим матросом Акимовым.

Жена вице-адмирала, видимо, искренне его любившая, не удовлетворилась захоронением мужа на столь почётном месте и установила рядом с его надгробием киот с иконами. Во время посещения храма Николаем II это стало причиной неприятного инцидента.
«Такого электрического освещения, как сейчас, в нижнем храме тогда не было, и в полумраке император, никак не ожидавший встретить на своём пути препятствие, налетел на киот, довольно сильно ударился головой и чуть не упал. Ольга Григорьевна Ковалик, написавшая книгу о нашем соборе, долгое время работала в Центральном военно-морском архиве и нашла многие уникальные документы. В том числе — вшитый в одно из дел тетрадный листок в клеточку. На нём зелёным и красным карандашами был сделан довольно грубый рисунок — видно, что человек либо совсем не умел рисовать, либо у него просто не было времени. Зелёным на листочке нарисованы расположенные в виде креста центральные захоронения и прямоугольники-надгробия. Один из них обозначен красным, от него идёт стрелка и тем же красным карандашом написано: „Распорядительный отдел. Доложить о перенесении киота вице-адмирала Чухнина”», — со смехом рассказывает отец Алексий.
Самое поразительное, что подпись под рисунком стоит не чья-нибудь — рисунок сделан лично «морским министром Григоровичем», который занимал эту должность с 1911-го по 1917 год. Интересно, как сейчас отнеслись бы к такому неформальному, хотя и предельно понятному указанию какого-нибудь министра?
И последнее. Упомянутая книга Ольга Ковалик «Священный бастион России», написанная к 130-летию освящения Владимирского собора, была издана очень маленьким тиражом — всего 500 экземпляров. Неудивительно, что тираж стремительно разлетелся, и сейчас найти книгу, содержащую массу интереснейших фактов, практически невозможно. Может быть, стоит повторить?
Ольга Смирнова








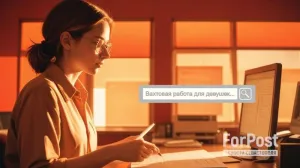
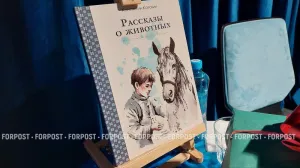
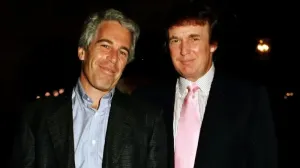






Интересно! Спасибо!