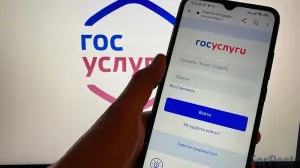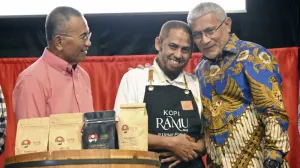Кажется, что адекватный художественный перевод невозможен в принципе: два языка - два мира, другой язык - другое произведение, хорошо если конгениальное оригиналу. Нет Толстого на японском, а есть Набори Сёму. Нет Шекспира на русском, а есть Лозинский, Пастернак, Кронеберг…
Но художественный перевод начался с переложения Священного Писания на языки мира. И слово Божие было проповедано если не по всей Земле, то на всей территории бывшей Священной Римской империи уж точно. Библия издана на 310 языках, а отдельные её части - на более чем 1500. Христиан на земле - 2 миллиарда 150 миллионов человек, и это благодаря переводу Библии.
Если Священное Писание на разных языках - каким-то чудом всё то же Священное Писание, то, может быть, Толстой и на японском Толстой, а Шекспир и на русском Шекспир? Тем же самым чудом. Хотя явленный русскому читателю тяжеловесный и унылый романист Диккенс, как утверждают специалисты, не имеет никакого отношения к подлиннику - искромётно остроумному и изящному.
Французский читатель искренне убеждён, что Чехов - медлителен и меланхоличен. А кто помнит, что Гамлет у Шекспира - толстяк?! Современная же российская литература представлена всемирному читателю лишь полудесятком авторов либерального толка. Что ж, и такие "чудеса" имеют место в переводческой практике.
Международный день перевода, учреждённый в 1991 году Международной федерацией переводчиков, - дань памяти святому Иерониму Стридонскому, умершему 30 сентября 420 года богослову и автору знаменитой Вульгаты - латинского варианта Библии, который в отличие от предыдущих сделан с оригинала и до сих пор используется. Святой Иероним считал, что хороший переводчик - тот, кто не "корпит над мёртвой буквой", а "судом победителя переводит пленные мысли на свой язык". Что это, как не кредо художественного перевода?
Хочется пожелать "толмачам" настоящих чудес. А также того, чтобы после знакомства с их работой читатель восклицал вслед за Тютчевым: "У меня ностальгия по чужбине!".
Литературная газета